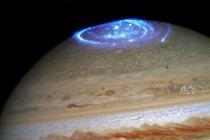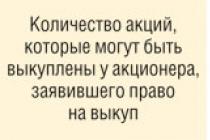(1888-1965)
Участник двух мировых войн, награжденный тремя Георгиевскими крестами, Георгиевской медалью 2-й степени и медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени.
Принял священный сан в 1926 году. В 1929 был посажен в тюрьму, затем служил в сельском храме. Во время войны собрал в селах Заполье и Бородичи 500 000 рублей и передал их через партизан в Ленинград на создание танковой колонны Красной Армии.
«Во время партизанского движения я с 1942 года имел связь с партизанами, много мною выполнено заданий, — писал священник в 1944 году архиепископу Псковскому и Порховскому Григорию. — Я помогал партизанам хлебом, первый отдал свою корову, бельем, в чем только нуждались партизаны, обращались ко мне, за что я получил государственную награду 2-й степени «Партизан Отечественной войны».
С 1948 года и до смерти настоятель Успенского храма в селе Молочкове Солецкого района Новгородской области.
Архимандрит Алипий (в миру Иван Михайлович Воронов)
(1914-1975)

Учился в вечерней студии при Московском Союзе советских художников в бывшей мастерской Сурикова. С 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны. Прошёл боевой путь от Москвы до Берлина в составе Четвёртой танковой армии. Участвовал во многих операциях на Центральном, Западном, Брянском, 1-м Украинском фронтах. Орден Красной звезды, медаль За отвагу, несколько медалей За боевые заслуги.
С 12 марта 1950 года - послушник Троице-Сергиевой лавры (Загорск). С 1959 года наместник Псково-Печерского монастыря. Вернул из Германии монастырские ценности. Вел колоссальную реставрационную и иконописную работу в монастыре.
Архимандрит Нифонт (в миру Николай Глазов)
(1918-2004)

Получал педагогическое образование, преподавал в школе. В 1939 году призван служить в Забайкалье. Когда началась Великая Отечественная война Николай Глазов первоначально продолжал нести службу в Забайкалье, а затем был направлен на учебу в одно из военных училищ.
После окончания училища артиллерист-зенитчик лейтенант Глазов начал воевать на Курской дуге. Вскоре он был назначен командиром зенитной батареи. Последний бой старшему лейтенанту Глазову пришлось вести в Венгрии у озера Балатон в марте 1945 года. Николай Дмитриевич был ранен. Старшему лейтенанту Глазову перебило коленные суставы. Ему пришлось пережить несколько операций сначала в полевом, а затем в эвакогоспитале в грузинском городе Боржоми. Старания хирургов не смогли спасти ему ног, коленные чашечки пришлось удалить, и на всю жизнь он остался инвалидом. В конце 1945 года в Кемерово вернулся еще очень молодой старший лейтенант, на кителе которого были ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медали: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». Он стал псаломщиком в Знаменской церкви Кемерова.
В 1947 году Николай Дмитриевич Глазов приехал в Киево-Печерскую Лавру и стал ее послушником. 13 апреля 1949 года он был пострижен в монашество с именем Нифонт, в честь святителя Нифонта Печерского и Новгородского. Вскоре после пострига он был рукоположен сначала во иеродиакона, а затем в иеромонаха.
После окончания Московской духовной академии направлен в Новосибирскую епархию.
(1915-2011)

Сын священника, за это был исключен из школы. Воевал в Тульской области, в 1943 году воевал на линии Болохово-Мценск — Повсюду тела убитых и раненых. В воздухе – сплошной стон. Стонут люди, стонут лошади. Я подумал тогда: «А еще говорят, что ада нет. Вот он, ад». Стояли на реке Сож в Смоленской области. В августе 1944 года ранен под Белостоком. После войны поступил в семинарию.
Накануне Петрова дня 1948 года рукоположен во священный сан. Прошел через хрущевские гонения.
Архиепископ Михей (в миру Александр Александрович Хархаров)
(1921-2005)

Родился в Петрограде в семье верующего рабочего. Принимал участие в Великой Отечественной войне, имел воинские награды. В 1939 году переехал в Ташкент, где в 1940 году по благословению своего духовного отца архимандрита Гурия (Егорова) поступил в медицинский институт.
В 1942-1946 служил радиотелеграфистом в Красной армии. Участвовал в снятии блокады Ленинграда, воевал в Эстонии, Чехословакии, дошёл до Берлина. За боевые заслуги был награждён медалями.
С мая 1946 года – послушник Троице-Сергевой Лавры и один из первых пострижеников Лавры после её открытия. В июне 1951 года окончил Московскую Духовную семинарию. 17 декабря 1993 года архимандрит Михей (Хархаров) хиротонисан во епископа Ярославского и Ростовского в Феодоровском кафедральном соборе города Ярославля. В1995 году возведен в сан архиепископа.
Профессор, протоиерей Глеб Каледа
(1921-1994)

В начале Великой Отечественной войны был призван в армию. С декабря 1941 года и до конца войны он находился в действующих частях и в качестве радиста в дивизионе гвардейских минометов «катюш» участвовал в битвах под Волховом, Сталинградом, Курском, в Белоруссии и под Кенигсбергом. Был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной Войны.
В 1945 г. поступил в Московский геологоразведочный институт и окончил его в 1951 г. с отличием; в 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1981 г. - докторскую в области геолого-минералогических наук. Список его научных публикаций включает свыше 170 названий.
С 1972 года тайный священник. В 1990 году выходит на открытое служение. Служил в храме Илии Обыденного, затем - во вновь открывшихся храмах Высоко-Петровского монастыря; был духовником общины трапезного монастырского храма во имя преп. Сергия Радонежского. Заведовал сектором в Отделе религиозного образования и катехизации; был одним из основателей Катехизаторских курсов, преобразованных затем в Свято-Тихоновский Православный богословский институт.
(1921-2012)

Ушла на фронт с третьего курса МАИ, была направлена в разведку. Принимала участие в обороне Москвы, вынесла раненого из-под обстрела. Была направлена в штаб К. Рокоссовского. Принимала участие в боях на Курской дуге и под Сталинградом. В Сталинграде вела переговоры с фашистами, призывая их сдаться. Дошла до Берлина. После войны закончила МАИ, работала в конструкторском бюро С.П. Королева. Чтобы принять самое активное участие в восстановлении Пюхтицкого подворья в Москве ушла на пенсию, в 2000 году приняла монашеский постриг с именем Адриана.
(1924-2011)

На войне
В 1942 году ушел на фронт добровольцем. Был подо Ржевом. На Курской дуге работал связистом. Однажды под бомбардировкой восстанавливал разорванную связь. Получил медаль «За отвагу». Был ранен и демобилизован.
После войны
Закончил Московскую Духовную семинарию в 1950 году, рукоположен во священники. Был настоятелем многих храмов, добивался, чтобы храмы не закрывали. В последние годы жизни был настоятелем Спасского храма села Большой Свинорье, Наро-Фоминского района Московской области.
(1924 — 2015)

Великая Отечественная война застала о. Ариана на территории современной Польши. Работал на железной дороге помощником машиниста. В войну передавал партизанам сведения о продвижении поездов с немецкими солдатами и бронетехникой, а также поездов с советскими военнопленными и угоняемыми на работу в Германию мирными жителями. Когда в списках отправляемых в Германию оказался сам Ариан Пневский, партизаны забрали его в отряд. Этот отряд входил в соединение под командованием легендарного партизанского генерала Сидора Артемьевича Ковпака.
Молодому партизану Ариану Пневскому довелось участвовать в рейдах по фашистским тылам и диверсиях, надолго сковывающих действия армии противника. После первого ранения семье отца Ариана по ошибке была отправлена «похоронка». Выписавшись из госпиталя, отец Ариан был направлен в танковые войска. Во время боя, в результате прямого попадания в танк вражеского снаряда сдетонировал боекомплект. Как правило, в таких случаях никто из членов экипажа в живых не остается, и родственники получили уже вторую похоронку. Но, к счастью, опять преждевременную. Вернуться домой отец Ариан смог уже после войны, лишь в конце 45-го года.
В 1945 году он поступил в Одесскую Духовную семинарию, которую в 1949 году с отличием окончил. Основной период пастырского служения отца Ариана пришелся на годы хрущевских гонений на Церковь. Об этом страшном времени издевательств над Православием о.Ариан всегда говорит: «Не дай вам Бог пережить что-то подобное».
Отец Ариан скончался утром 9 мая 2015 года, в день 70-летия победы в Великой Отечественной войне, на 91-м году жизни.
(1924-2004)

Родился в Саратовской губернии, в 1942 заканчивает среднюю школу. Направлен в дивизион тяжелых минометов Резерва Ставки Верховного Главнокомандующего. Этот дивизион был придан 57 армии, отражающей немецкое наступление южнее Сталинграда. С началом нашего контрнаступления корректировщику огня рядовому Осипову пришлось пройти с тяжелыми боями через Калмыцкие степи к Ростову-на-Дону. Здесь 3 февраля 1943 года в одном бою Алексей Павлович получил два ранения. Сначала осколочное в предплечье и в грудь, но поля боя не покинул, а вечером ему раздробило ступню.
Ступню и часть голени сохранить не удалось, они были ампутированы. После лечения молодой солдат-инвалид, награжденный медалями: «За отвагу» и «За оборону Сталинграда» вернулся в родные места на Волгу. В 1945 году, за очень короткий срок он окончил Сталинградский учительский институт с отличием и сдал экстерном экзамены за курс Воронежского педагогического института. Был исключен за то, что читал на клиросе.
Заканчивает Одесскую Духовную семинарию, Московскую Духовную академию. Направлен в Новосибирскую епархию, в октябре 1952 года Алексий Осипов был рукоположен митрополитом Варфоломеем во диакона и во священника.
(1926-2013)

Призван в армию с третьего курса Машиностроительного техникума в 1942. Прошел Северо-Западный, Украинский, Белорусский фронт техником. Он служил на военных аэродромах, готовил штурмовики к боевым вылетам и…молился. «Был такой курьезный случай в Белоруссии, под Минском. Я стоял часовым на посту у штаба. Сдал пост и пошел на аэродром за 12 километров, а на пути храм. Ну как не зайти? Захожу, батюшка посмотрел на меня и остановил чтение в раз. Певчие тоже замолчали. А ведь я прямо с боевого поста, с карабином. Они и подумали, что я батюшку арестовывать пришел…».
После окончания войны Борис Бартов еще пять лет служил в армии. Награжден орденом Отечественной войны II степени, десятью медалями. В 1950 году Борис Степанович был рукоположен в сан диакона. До последнего дня был почетным настоятелем Спасо-Преображенского храма города Кунгура.
(1926-2002)

В 17 лет, в 1943 году, Александр Смолкин ушел на фронт, воевал на 1-м Прибалтийском фронте. В начале 1944 года Александр Смолкин получил тяжелое ранение, был направлен в госпиталь в Горький, где пробыл несколько месяцев. После выздоровления Александр вернулся в строй и продолжал воевать. Войну он закончил в Германии. Старший сержант Александр Смолкин был награжден медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», польской медалью.
После войны Александр Смолкин еще несколько лет служил в армии и демобилизовался в 1951 году. И уже на следующий год он поет на клиросе, а затем становится псаломщиком в Вознесенском кафедральном соборе города Новосибирска, через год его рукополагают в диаконы, через три — во священники.
(1926 — 2017)

В 1941 году учился в ремесленном училище на автозаводе имени Молотова в Горьком, попал под первую бомбежку. В армию призван в 1943 г. Служил в пехоте, охранял склады с боеприпасами. При росте 149 см весил 36 кг. После войны отец Сергий закончил духовные семинарию и Академию, в 1952 году принял священство. Служил настоятелем храма святых Флора и Лавра в селе Флоровское Ярославской области.
(1922 г.р.)

После школы был призван на фронт и направлен в Ленинград. Пережил блокаду. «Вы даже представить себе не можете, что такое блокада. Это такое состояние, когда есть все условия для смерти, но никаких - для жизни. Никаких - кроме веры в Бога. Нам приходилось копать траншеи для пушек и блиндажи в пять накатов из брёвен и камней. А питались при этом травой. Запасали её на зиму».
Защищал «Дорогу жизни» обеспечивающую связь блокадного Ленинграда с внешним миром, в 1944 получил пулевые и осколочные ранения. После войны Валентин Яковлевич вернулся в Томскую область. В 1960-е годы Валентин Бирюков пел на клиросе. Один из старейших священников Новосибирской епархии.

В 1943 году, имея бронь на Московском авиационном заводе, Николай Попович ушел добровольцем на фронт. Окончив сержантскую школу, стал командиром пулеметного расчета «Максим». В 1944 году после тяжелой битвы на реке Неман и отражения немецкой контратаки был награжден орденом Красной Звезды. Пройдя с боями Белоруссию, Литву и Польшу, был тяжело ранен осколком в голову на подступах к Восточной Пруссии, направлен на излечение в госпиталь в г. Чкалов и впоследствии демобилизован. После войны получил два высших образования – юридическое и экономическое. Работал в Госплане Российской Федерации, занимал ответственные посты в системе Госкомитета по труду и заработной плате при Совете Министров СССР.
Узнав о вводе советских войск в Чехословакию – к тому времени он был уже верующим, – решительно положил свой партбилет на стол перед онемевшим секретарем райкома партии и, по благословению духовника, ушел в церковные сторожа.
Протодиакон Маркиан Пасторов

Родился в Сталинградской области, Кумылженский район, хутор Ярской, в семье крестьянина. Рукоположен во диакона в 1925 году.
В начале Отечественной войны был мобилизован на оборонные работы. В 1942 году попал во вражеский плен. Из плена совершил побег в город Варнау, где обратился к Митрополиту Дионисию, который направил меня во Францию в войсковую часть диаконом в распоряжение архимандрита отца Владимира Финковского, где я служил в разных местах; в 1945 году (в День Трех святителей) был возведен в сан протодиакона Епископом Василием Венским.
По окончании войны вместе со многими был репатриирован в Россию, выслан в город Прокопьевск Кемеровской области. В первые годы моего пребывания там я был лишен права выезда, поэтому нигде не мог служить в приходе». Лишь в 1956 году отец Маркиан стал протодиаконом храма в Прокопьевске. О годах своей ссылки он не без юмора говорил так: «Десять лет находился на “сибирских курсах”». В начале семидесятых по возрасту вышел за штат, и в конце своей жизни жил у дочери в городе Калач Волгоградской области.
Монах Самуил (в миру Мальков Алексей Иванович)
(1924 г.р.)

Насельник Саввино-Сторожевского монастыря
До ухода на фронт учился во 2-м Московском пулеметном училище. Призван на фронт, сражался на Курской дуге в пехоте: был автоматчиком. На Курской дуге был ранен, после ранения направлен в сталинградскую школу по подготовке младших командиров, окончил ее успешно, остался преподавать, затем направлен в Киевское танковое училище. Работал в НИИХИММАШ (Научно-исследовательский институт химического машиностроения) старшим инженером-конструктором. Ушел на пенсию в 1974 году. В 2001 году принял монашеский постриг.
Монахиня Елисавета (в миру Вера Дмитриева)
(1923-2011)

Родилась в Ставрополе.
Прошла Великую Отечественную войну медсестрой, вынесла множество раненых бойцов с поля боя. «Я читала молитву, и страх как-то током в землю уходит. И слышно, как сердце бьется. И не боишься уже». Укрывала раненых солдат от фашистов.
Одна из первых монахинь Хабаровска.
Протоиерей Роман Косовский
Скончался в 2013-м году.

Родился Роман Косовский в селе Пустоха на Винничине в крепкой крестьянской семье. В 37-м отца расстреляли. Все хозяйство отобрали. Мама умерла с голоду - все, что удавалось раздобыть, отдавала четверым детям. После смерти матери их распределили по детдомам. 15-летнего Романа отправили в Луганск. Уже в 16 он пошел на шахту. А в 17 - в 41-м - на войну. Победа застала его в Праге.
Матушка София (Екатерина Михайловна Ошарина)

Ныне цветовод-озеленитель Раифского монастыря. От Москвы до Берлина прошла она, сражаясь за родную землю. Участвовала во взятии Кенигсберга (Калининград).
Существует множество воспоминаний о молебне русских священников у стен Кенигсберга во время его штурма в апреле 1945 года. Видела его и матушка София(Екатерина Михайловна Ошарина), ныне цветовод-озеленитель Раифского монастыря. От Москвы до Берлина прошла она, сражаясь за родную землю.
… Помню Кенигсберг. Мы относились ко 2-му Белорусскому фронту, которым командовал маршал Константин Константинович Рокоссовский. Но наше подразделение - 13-й РАБ (район авиационного базирования) - находилось вместе с войсками Прибалтийского фронта, недалеко от места боев за Кенигсберг.
Очень трудно он давался. Мощные укрепления, связанные подземкой, большие силы немцев, каждый дом - крепость. Сколько наших солдат погибло!…
Взяли Кенигсберг с Божией помощью. Я сама видела, хотя наблюдала с некоторого отдаления. Собрались монахи, батюшки, человек сто или больше. Встали в облачениях с хоругвями и иконами. Вынесли икону Казанской Божией Матери… А вокруг бой идет, солдаты посмеиваются: «Ну, батюшки пошли, теперь дело будет!»
И только монахи запели - стихло все. Стрельбу как отрезало.
Наши опомнились, за какие-то четверть часа прорвались… Когда у пленного немца спросили, почему они бросили стрелять, он ответил: «Оружие отказало».
Один знакомый офицер сказал мне тогда, что до молебна перед войсками священники молились и постились неделю».
Митрополит Тверской и Кашинский Алексий (Коноплёв)
1910-1988

Был мобилизован в октябре 1941. 5 мая 1942 получил ранение, а после излечения вновь отправлен на передовую. После вторичного ранения был как нестроевой откомандирован в военно-дорожный отряд. Награждён медалью «За боевые заслуги» и рядом других военных наград.
Награждён орденом Отечественной войны I степени (в 1985, в связи с 40-летием победы в войне).
Архимандрит Кирилл (Павлов)
(1919-2017)

Духовник Троице-Сергиевой лавры, духовный отец трёх русских Патриархов.
Участник Великой Отечественной войны в звании лейтенанта, участвовал в обороне Сталинграда (командовал взводом), в боях возле озера Балатон вВенгрии, закончил войну в Австрии. Демобилизовался в 1946 году.
Во время войны Иван Павлов обратился к вере. Он вспоминал, что, неся караульную службу в разрушенном Сталинграде в апреле 1943 года, среди развалин дома нашёл Евангелие. Иногда архимандрита Кирилла отождествляют со знаменитым сержантом Я. Ф. Павловым, также участвовавшим в Сталинградской битве и оборонявшим знаменитый «дом Павлова». Однако речь идет об однофамильце - гвардии старший сержант Яков Павлов после войны находился на партийной работе и в монахи не постригался.
После демобилизации Иван Павлов поступил в Московскую духовную семинарию, а по её окончании - в Московскую духовную академию, которую окончил в 1954 году. 25 августа 1954 года был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре. Вначале был пономарём. В 1970 году стал казначеем, а с 1965 года - духовником монашеской братии. Был возведён в сан архимандрита.
Архимандрит Петр (Кучер)
(1926 г.р.)

Духовник Боголюбского монастыря. С 2010 года на покое.
В сентябре 1943 года в возрасте 17 лет был призван в армию. После окончания полковой школы в Одессе 11 июня 1944 года прибыл в действующую армию 3-го Украинского фронта на Днестре в районе города Бендерыи участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии.
Награждён несколькими боевыми наградами, среди которых - орден Славы III степени, орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и др.
Демобилизовался осенью 1950 года, майор в отставке.
Патриарший архидиакон Андрей Мазур
(1927 — 2018)

В качестве командира отделения миномётчиков участвовал в военных действиях под Берлином.
Орден Отечественной войны 2-й степени (1985).
Медаль «За взятие Берлина» (1945).
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945).
«Мне очень мало пришлось воевать. Нас, «западников», почему-то на фронт не пускали, держали в Марийской республике ― считали, что мы ненадежные, бандеровцы, если что, переметнемся на сторону врага. Под конец уже послали, когда были бои за Берлин. Там я попал в госпиталь. Ранен не был, просто заболел: кормили в армии очень плохо. Каждый стремился попасть в наряд на кухню, чтобы хоть чем-то поживиться. Помню, картошку чистили, а очистки собирали, пекли в землянке на «буржуйке» и ели. Хорошо, родители посылали хлеб. Не всегда посылки доходили, но иногда все же что-то получали. Когда я вернулся после госпиталя, меня хотели отправить в школу милиции. Тогда отец отвез меня в Почаевскую лавру, где я стал послушником».
Протоиерей Василий Ермаков
(1927-2007)

Родился в городе Болхове Орловской губернии в крестьянской семье. Первые наставления в церковной вере получил в семье от отца, поскольку все 28 церквей небольшого города к 30-м годам были закрыты. Пошел в школу в 1933 году, к 1941 году окончил семь классов средней школы.
В октябре 1941 года немцы с боями захватили город Болхов. Молодёжь от четырнадцати лет и старше отправлялась на принудительные работы: чистить дороги, рыть окопы, засыпать воронки, строить мост. Во время оккупации, с 16 октября 1941 года в городе была открыта церковь ХVII века во имя святителя Алексия, митрополита Московского, расположенная на территории бывшего женского монастыря Рождества Христова. Служил в церкви священник Василий Верёвкин. В этом храме Василий Ермаков впервые посетил службу, с Рождества Христова 1942 года стал ходить на службы регулярно, с 30 марта 1942 года стал прислуживать в алтаре.
16 июля 1943 года вместе с сестрой попал в облаву и 1 сентября был пригнан в лагерь Палдиский в Эстонии. Таллиннское православное духовенство совершали в лагере богослужения, и в числе прочих в лагерь приезжал протоиерей Михаил Ридигер, с которым Василий Ермаков тогда же познакомился и подружился. В лагере Василий Ермаков пробыл до 14 октября 1943 года: священник Василий Верёвкин, находившийся там же в лагере, причислил его к своей семье, когда вышел приказ освободить из лагеря священников и их семьи.
До конца войны вместе с Алексеем Ридигером, сыном протоиерея Михаила, служил иподьяконом у епископа Нарвского Павла и одновременно работал на частной фабрике. 22 сентября 1944 года город Таллин был освобождён советскими войсками.
После освобождения Василий Ермаков был мобилизован и направлен в штаб Балтийского флота, в свободное время выполняя обязанности звонаря, иподьякона, алтарника в соборе Александра Невского в Таллине.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов)
(1924-2001)

По окончании средней школы был зачислен в Тульское пулемётное училище и в 1942 году направлен на фронт. Воевал рядовым под Сталинградом. После ранения (два пулемётных ранения и обморожение конечностей) попал в госпиталь, откуда после ампутации пальцев обеих ног, демобилизовался в 1943 году.
(1924-2016)

Один из старейших священников Кузбасской митрополии. Отец Сергий (в миру Сергей Александрович Хомутов) родился 5 мая 1924 года в Сталинске (ныне Новокузнецк) Кемеровской области. В годы войны был призван в армию, воевал в составе 75-го отдельного артиллерийского дивизиона радиотелеграфистом. После войны вернулся домой, к родителям.
Окончил курсы чертежников, работал на Кузнецком металлургическом комбинате художником. В 1958 году принял священный сан, в последние десятилетия служил в приходах на территории Кузбасской митрополии. В 2000 году был почислен на покой по состоянию здоровья.
Митрофорный протоиерей Иоанн Букоткин
(26.09.1925 — 08.05.2000)

Родился в 1926 году в деревне Полухино Саратовской области Аркадагского района в крестьянской семье. Окончил только семь классов школы. С началом войны отправился учиться на связиста. Воевал на Третьем Белорусском фронте, в Восточной Пруссии.
Из воспоминаний о. Иоанна:
«Я непрестанно молился всю войну. У меня на груди был крест; однажды я уронил его на соломенный пол и не смог найти. Из подола шинели вырезал крестик и повесил на грудь. Но очень расстроился. И вот проходит старшина, спрашивает: «Как дела, Букоткин?» Я ответил: «Так-то все хорошо, но вот крест потерял» (офицеры знали, что я верующий). И старшина достает из кармана крест и иконку: «Выбирай!» Крестом его благословила мать, и я взял иконку, подаренную старшине полячкой. Он спас ее дочерей, когда отступающие немцы хотели сжечь множество людей в сарае. С этой иконкой Спасителя и Божией Матери я прошел до конца войны. У многих наших офицеров были кресты и иконки. Кому мать дала, кому жена.
Орден Славы III степени — это самая дорогая для меня награда. Под Инстинбургом мы отбили две атаки немцев, а в третью они пошли без единого выстрела и только с близкого расстояния открыли минометный огонь. Мины ложились в шахматном порядке, головы не поднять. Мне командир приказал добраться до левого фланга и разведать обстановку. Я пробирался под шквальным огнем и встретил санитара, который перевязывал раненого сержанта Глушко. Я отстреливался, а немцы наступали полукругом. Тогда мы затащили раненого в какой-то сарай и спрыгнули в погреб. Глушко остался наверху. Погреб был каменный, в одном месте дыра заткнута тряпкой, можно было руку протянуть и достать до немцев, а они уже были везде. Я понял, что нас обязательно схватят, а если узнают, что я связной — будут пытать. Говорю санитару: «Я ухожу отсюда». Он стал уговаривать остаться. Я перекрестился, три раза прочел «Отче наш», приставил лесенку и с молитвой «Господи, благослови» вылез из погреба. Сержант Глушко лежал без движения, и я подумал, что он умер. Так же, видно, решили и немцы. Выглянул во двор, везде суетились фашисты. Решил пересечь двор и перебежать дорогу, а там залечь в кювете и отстреливаться до последнего патрона, последний — себе. Пробежал до кювета, а они меня не заметили! До сих пор не знаю почему. Может быть, оттого, что шинель-то на мне была зеленая, английская…
За кюветом было открытое место, в гору метров двести пятьдесят. И я побежал зигзагами. Немцы стали стрелять, а я падал, отдыхал и бежал дальше. Меня ранило в ногу, а уже на самой горке пулей раздробило левое плечо. Подобрали меня свои уже, когда стемнело. Оперировали в полевом госпитале, где я встретил сержанта Глушко. От него узнал, что санитара, оставшегося в погребе, немцы нашли….»
После войны служил в штабе Московского военного округа. После окончания семинарии в 1952 году был рукоположен в священники в Саратове, потом служил в Астрахани, в Камышине, в Боровичах Новгородской области. Около сорока лет отец Иоанн Букоткин прожил в Самаре и служил в храме во имя святых апостолов Петра и Павла, последние годы был духовником Самарской епархии. ППохоронен в Иверском женском монастыре в Самаре.
Подготовлено по открытым источникам. Присылайте дополнения в редакцию.
Великую Отечественную войну с первых дней называли священной. Символично, что немецкое командование начало переговоры о капитуляции 6 мая - в день православной Пасхи, символизирующей победу жизни над смертью.
Светлое воскресенье 1945-го, которое пришлось на 6 мая, совпало с празднованием дня святого великомученика Георгия Победоносца, покровителя русского воинства. Георгий Победоносец был и н-ебесным покровителем маршала Георгия Жукова , который и подписал 9 мая 1945 г. в Берлине от имени СССР акт о полной капитуляции Германии. Святой изображается на иконах (в том числе и на гербе Москвы) восседающим на белом коне. И именно на белом коне Георгий Жуков принимал Парад Победы на Красной площади.
То, что Жуков - человек крещёный и верующий, в армии было известно. Хотя, понятно, что в реалиях того времени он не мог себе позволить, как нынешний министр обороны Сергей Шойгу, всенародно наложить на себя крестное знамение перед началом Парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
70 лет назад война привела к вере многих фронтовиков. Из военной шинели 1941-1945 гг. вышли известные священники и монашествующие. Некоторые из них до сих пор на посту.
Архимандрит Кирилл (Павлов). Фото: www.russianlook.com
Архимандрит Кирилл (Павлов) (1919 г. р.)
Прошёл всю войну в пехоте. Был дважды ранен. Во время Сталинградской битвы, в которой погибло 2 млн человек, на развалинах одного из домов Иван (имя старца до пострига. - Ред .) обнаружил Евангелие. Прочитал. Вспоминал потом: «Евангелие легло мне на душу, как елей. До конца войны я с ним не расставался, оно всегда было у меня в кармане».
В семинарию Иван приехал поступать в военной форме. З-акончил её с отличием, а затем и духовную академию. Принял постриг.
В 1995 г., в день 50-летия Победы, старец Кирилл, будучи духовником покойного патриарха Алексия II и находясь в патриаршей резиденции в Переделкине, забрался на крышу котельной, чтобы увидеть салют на Поклонной горе.
Много лет старец был духовником братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Своим духовным наставником батюшку избирали три патриарха: Алексий I (1877-1970), Пимен (1910-1990) и Алексий II -(1929-2008). Сейчас архимандрит Кирилл прикован к постели из-за тяжёлой болезни, которую переносит с терпением истинного солдата.

Иван Воронов, будущий Архимандрит Алипий. Фото: pravoslavie.ru
Архимандрит Алипий (Воронов) (1914-1975)
Наместник Псково-Печорского монастыря (1959-1975), он прошёл всю войну от Москвы до Берлина. Именно на фронте ему и пришла мысль о монашестве. «Я видел столько смертей, столько крови, что дал слово: если выживу, буду оставшуюся часть жизни служить Богу и уйду в монастырь», - рассказывал потом архимандрит Алипий. Древнюю Псково-Печор-скую обитель он вместе с братией поднял из руин. Сумел вернуть из Германии похищенные немцами святыни. Будучи профессиональным художником, писал иконы, занимался реставрацией храмов древнего монастыря. Благодаря батюшке Псково-Печорская обитель стала единственным в нашей стране монастырём, который за всю свою 600-летнюю историю ни разу не закрывался. Когда во время хрущёвских гонений на Церковь наместнику принесли бумагу с официальным приказом закрыть монастырь, архимандрит Алипий бросил её в огонь. Предупредил, что монастырь закрыть не позволит: «У нас две трети братии - фронтовики. Займём круговую оборону». Штурмовать монастырь партийные чиновники не решились.
Батюшки были рядом с воинами всегда: на войне, как нигде, нужно духовно поддерживать и, к сожалению, нередко отпевать. Но официальной датой рождения православного военного духовенства считают 30 марта 1716 года, когда Петр I утвердил Воинский устав.
За столетие Советов о многом позабыли, и сегодня трехсотлетие православного военного духовенства проходит незамеченным. «Комсомолка» решила напомнить лишь о некоторых подвигах батюшек, оказавшихся на передовой.
С ХРИСТОМ – В АТАКУ
Отец Василий (по разным данным, Васильковский или Василевский ) стал первым в истории православным священником, награжденным орденом Святого Георгия. Георгиевский крест четвертой степени батюшка 24-ой пехотной дивизии 19-го егерского полка получил за отвагу в Отечественной войне 1812 года.
В полк, который прошел Бородино , отец Василий попал за два года до наступления Наполеона. О священнике отзывались как о порядочном, рассудительном и образованном человеке: он прекрасно знал математику, географию, историю, владел латынью, греческим, немецким, французским.
Всю Отечественную войну батюшка был на передовой, воодушевляя солдат. В сражении под Витебском поддерживал идущих в атаку, исповедовал тяжело раненных. Когда рядом упало пушечное ядро, ему ранило левую щеку. Но Василевский не отступил, пока его не контузило: пулевой выстрел пришелся в нагрудный крест.
"Cражение за Малоярославец" (фрагмент картины - отец Василий Василевский). Художник: Александр Аверьянов
Подвиг, отмеченный Святым Георгием, батюшка совершил в битве под Малоярославцем : когда все офицеры были мертвы, он вывел полк из окружения.
– В этом бою он все время находился с крестом в руке впереди полка, наставлениями и примером мужества поощрял воинов крепко стоять за Веру, Царя и Отечество, – писал генерал Николай Дохтуров Кутузову . – Причем сам был ранен в голову.
О награждении батюшки-героя перед Александром I ходатайствовал сам Кутузов.
Дома Василевского, рано овдовевшего, ждал маленький сын. Но вернуться священнику было не суждено: в 1813-ом во Франции отец Василий умер от боевых ран.
Стефан Щербаковский , священник 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, отличился в Русско-японской войне. В первом крупном сражении на суше, под Тюренченом , он, с пением «Христос воскресе», повел в атаку роту, потерявшую командира. В этом бою отец Стефан был дважды ранен.

Георгиевский крест 29-летний священник получил из рук командующего Русской армией генерала Алексея Куропаткина . До конца войны Щербаковского награждали еще трижды. А во времена Первой мировой его дважды представили к орденам.

После революции отец Стефан отправился на родину, в Одессу . В 1918-ом его арестовали, осудили и расстреляли.
Трофим Куцынский большую часть жизни провел в боях. Прошел Русско-турецкую войну 1787-1791 годов. За участие в штурме Измаила отца Трофима наградили бриллиантовым крестом на георгиевской ленте.
При взятии крепости войсками Суворова командир Полоцкого полка был убит. Бойцы растерялись, стали отступать. Тогда отец Трофим поднял крест.
– Стойте! – крикнул он дрогнувшим солдатам, указывая на Христа. – Вот ваш Командир!
И, подбадривая вояк, первым стал карабкаться по лестнице на стену крепости. Крест был пробит двумя пулями, сам отец Трофим получил ранение в левую ногу и контузию. Но Измаил пал.
НА ПЕРЕДОВОЙ С КРЕСТОМ В РУКЕ
Отец Домиан Борщ , священник Азовского пехотного полка, прошел Крымскую войну. Участвовал батюшка и в осаде Севастополя .
Во время осады отец Домиан под пулями неприятеля вытаскивал с поля боя раненых. Но бинты быстро закончились. Тогда священник принялся рвать свою рубаху, рясу, лишь бы не дать воинам истечь кровью.

В боях отец Домиан был дважды ранен и контужен, но дожил до глубокой старости. За самоотверженность батюшку наградили множеством наград, в том числе Георгиевским крестом.
Своими руками духовники отражали натиск неприятеля нечасто. Один из батюшек, которому пришлось и повоевать, – отец Гавриил Судковский . Он стал участников Крымской войны.

Осенью 1854-го англо-французский флот напал на Очаков . Крепость обстреливали три часа подряд. Все это время отец Гавриил не только поддерживал и благословлял каждого, но и сам заряжал орудия ядрами. За это его наградили золотым крестом на георгиевской ленте.
Позже отец Гавриил прославился как усердный молитвенник и постник.
Отец Виктор Малаховский , прошедший Первую мировую, все время говорил, что войны боится. По ночам он почти не спал: вздрагивал от каждого выстрела. Но едва начинался бой, батюшка бросался на передовую и под свистом пуль и ревом снарядов перевязывал, причащал, закрывал глаза убитым.
– Если б все «трусы» походили на отца Виктора, то в нашей армии никогда бы не было ни вызванных паникой отступлений, ни брошенных обозов, – писал о батюшке офицер лейб-гвардии Конногренадерского полка Николай Воронович. – Он боялся только до тех пор, пока не было настоящей опасности, а когда таковая наступала, он убивал свой страх.

"Побежденные. Панихида по павшим воинам". Художник: Василий Верещагин
Своей способностью презреть смерть Малаховский заражал остальных. И, несмотря на страх, сам просился на передовую: говорил, что не может отсиживаться в обозе, когда «его» солдаты в опасности.
СИЛА ПРОПОВЕДИ
Во времена Первой мировой священник 58-го пехотного Прагского полка, отец Порфирий (по другим данным, Парфенип) Холодный следовал по полям брани с полковой церковью – палаткой со складным иконостасом. Чтобы ее поставить или убрать, нужно немало времени. Поэтому, когда полк тронулся, батюшка и еще три человека задержались.

Вдруг отряд австрийцев окружил походную церковь, на священника и других отставших направили оружие. Но отец Порфирий не растерялся: он поднял над головой икону «Спас Нерукотворный» и произнес такую пламенную проповедь (на языке врага), что два десятка солдат и два офицера сложили оружие и сдались в плен.

Настоятель церкви белорусского села Мало-Плотницкое отец Александр Романушко полковым священником не был, но героем стал. В годы Второй мировой его «пригласили» отпевать убитого полицая.

Храбрый батюшка не только отказался, но и предал изменника Родины анафеме. А затем выдал настолько яркую речь, что половина полицейских прямо с похорон товарища ушла с отцом Александром в партизанский отряд.
Даже в немецких лагерях продолжала звучать молитва. Священник 30-го пехотного Полтавского полка Иоанн Казарин , оказавшийся в плену после разгрома армии Самсонова в ходе Первой мировой, не пожелал отделяться от своих солдат.
Батюшке удалось переправить несколько писем на Родину: в них он писал о тяжелом положении военнопленных в лагерях. Тогда на его имя стали приходить посылки с книгами и церковным облачением.

Усилиями отца Иоанна в одном из бараков устроили церковь. Службы в ней в 1915-1916 годах шли каждый день. Весь иконостас выпилили из деревянных коробок из-под посылок перочинным ножом и лобзиком. Лампады и паникадило соорудили из консервных банок. Иконы офицеры писали масляными красками на полотне, а богослужебные тексты читали по памяти.
ВЫСТОЯТЬ СЛУЖБУ
Отец Андрей Богословский был полковым священником в Русско-японскую и Первую мировую. После боев с японцами получил четыре награды.
В Первую мировую отец Андрей перевелся в 6-й Финляндский стрелковый полк. И получил орден Святого Георгия.

– 22 октября 1915 года, стоя на возвышении, он благословлял каждого, – говорится в приказе о награждении. – Когда началась стрельба, он остался на прежнем месте. Грудь его защитила дароносица, висевшая на шее: пуля, летевшая в сердце, отклонилась.
После батюшка направился во Францию в составе Русского экспедиционного корпуса. Получил орден Почетного легиона, а после подписания мира остался священником Русского легиона чести. Там отец Андрей и нашел свою погибель: в 1918-ом его убили в бою с немцами.
Священник 311-го пехотного Кременецкого полка отец Митрофан остался непоколебим под ревом вражеской артиллерии. В 1915 году он вел очередную службу, когда в церковь попал снаряд.
Бомба пробила крышу и упала возле алтаря. Но отец Митрофан хладнокровно перекрестил ее – и продолжил службу. Молящиеся, следуя примеру, паниковать не стали. Когда литургия закончилась, снаряд вынесли из храма и обезвредили.
А СВЕЧИ ВСЕ ГОРЕЛИ…
Во время Цусимского сражения, ключевого в провальной Русско-японской войне, погибли не только тысячи солдат, но и десятки корабельных священников. Один из них – отец Назарий с броненосца «Князь Суворов».

Броненосец "Князь Суворов", на котором погиб отец Назарий. Фото: Общественное достояние
– Наш симпатичный батя, монах не только по платью, но и по духу, находился на пункте в епитрахили, с крестом и запасными Дарами, – пишет в воспоминаниях офицер броненосца Владимир Семенов . – Когда к нему, сраженному градом осколков, бросился доктор и санитары, он отстранил их, приподнялся и твердым голосом начал: «Силой и властью…». Но захлебнулся кровью и торопливо закончил: «отпускаю прегрешения… во брани убиенным…». Благословил окружающих крестом, которого не выпускал из рук, и упал без сознания.
Все вокруг было иссечено осколками, но корабельные иконы остались целы. А перед киотом продолжали гореть свечи.
(Для подготовки публикации использовались работы исследователя истории военного духовенства, начальника канцелярии Собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка Дмитрия Леонтьева, а также руководителя церковно-исторического проекта «Летопись», историка Константина Капкова)
«Я всегда стремился служить народу и спасать людей. И я спас бы их гораздо больше, если бы вы не таскали меня по тюрьмам и лагерям».
22.06.2018 Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин 13 665
«Не таких обманывали, с НКВД справлялись, а этих колбасников обмануть не трудно». Псковская миссия охватывала огромную территорию от Пскова до Ленинграда.
В начале следует отметить, что выход на непосредственное военное столкновение с СССР было главной предпосылкой реализации провозглашенной Гитлером еще в «Майн Кампф» цели уничтожения Российского государства, ликвидации и порабощения ее населения, превращения всей России в колонию и место для расселения немецкой расы «господ». Это было задолго до пакта Молотова-Риббентропа. Цель эта была отлично известна на Западе. Действия ведущих западных стран в 30-е годы прошлого века были однозначно направлены на то, чтобы помочь Гитлеру подготовиться к войне с СССР. Гитлера толкали на Восток, убеждая, что на Западе ему искать нечего: там нет жизненного пространства для немцев.
Развязанная фашистской Германией с попустительства «западных демократий» после Мюнхенского сговора осенью 1938 г. Вторая мировая война явилась страшным бедствием для всего мира и особенно для СССР. Но пути Господни неисповедимы, и Божий промысл, умеющий обращать зло в добро, дал возможность возрождения для Русской Православной Церкви (РПЦ). На 1914 г. в Российской империи было 117 млн. православных христиан, которые проживали в 67 епархиях, управляемых 130 епископами, и 50 с лишним тысяч священников и диаконов служили в 48 тыс. приходских храмов. В ведении Церкви находилось 35 тыс. начальных школ и 58 семинарий, 4 академии, а также больше тысячи действующих монастырей с почти 95 тыс. монашествующих (1). В результате коммунистического уничтожения Церкви, на огромной территории Советского Союза к 1 сентября 1939 г. осталось всего 100 храмов, четыре архиерея, 200 священников. Но уже к середине 1940 г., в результате присоединения Западной Украины и Белоруссии, Прибалтики, где церкви не закрывались новой властью по политическим соображениям, число храмов увеличилось до 4000, что давало возможность Русской Православной Церкви хотя бы отчасти возродиться от пережитого ею ужасного погрома. Правительство не могло не считаться с новыми массами православного населения (2).

Во время войны Церковь не поддалась искушению рассчитаться за нанесенный ей жесточайший удар. Патриотизм православного духовенства и мирян оказался сильнее обид и ненависти, вызванных долгими годами гонения на религию. Всем известно, что Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 г. Но лишь не многие знают, что это воскресенье было по церковному календарю «Неделей всех Святых, в земле Российской просиявших» . Этот праздник был установлен в преддверии жестоких гонений и испытаний для Русской Церкви и явился своеобразным эсхатологическим знамением мученического периода в истории России, но в 1941 г. он промыслительно явился началом освобождения и возрождения Церкви. Русские святые стали той духовной стеной, которая остановила бронированную немецкую машину с оккультной свастикой.
В первый же день войны, за 11 дней до знаменитой сталинской речи, без всякого нажима властей, сугубо по своей инициативе, Патриарший местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский) написал свое знаменитое «Послание пастырям и пасомым христианской православной Церкви»:
 «Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству… Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге пред Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы – православные, родные им по плоти и вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом… Вспомним святых вождей русского народа, например, Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших души свои за народ и Родину…. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины» (3).
«Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству… Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге пред Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы – православные, родные им по плоти и вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом… Вспомним святых вождей русского народа, например, Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших души свои за народ и Родину…. Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины» (3).
Значение этого Послания трудно переоценить. Гонимая Православная Церковь сама протягивала руку помощи, но не столько атеистической власти, сколько заблудшему и несчастному русскому народу. В Послании местоблюстителя митрополита Сергия речь идет только о народе и о всенародном подвиге, ни слова о вождях, которые в это время практически безмолвствовали. Восстанавливался в своем значении русский православный патриотизм, гонимый, оплевываемый и осмеиваемый космополитами-коммунистами. Вспомним знаменитые слова Ленина: «На Россию мне наплевать, потому что я большевик». Вспомним также и призывы Ленина к поражению России в Первой мировой войне, когда русские солдаты сражались на германском фронте. От воспоминания Местоблюстителем святых вождей русского народа – Александра Невского и Димитрия Донского – красная нить протягивается к соименным правительственным орденам и к сталинским словам из речи от 3 июля: «Под знаменами Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского – вперед к победе!» . Митрополит Сергий вдыхал в души русских людей веру в победу и надежду на Божий промысл: «Но не в первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божиею помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу… Господь нам дарует победу». Устами Патриаршего местоблюстителя Церковь объявляла судьбу народа своей: «Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет он небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг… ».
 В Послании изъяснялся духовный смысл не только воинского подвига, но и мирного труда в тылу. «Нам нужно помнить заповедь Христову: "Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя".
Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, свои здоровьем или выгодой ради родины». Митрополит Сергий определял и задачи духовенства: «Нам пастырям Церкви, в такое время, когда Отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией»
(4).
В Послании изъяснялся духовный смысл не только воинского подвига, но и мирного труда в тылу. «Нам нужно помнить заповедь Христову: "Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя".
Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, свои здоровьем или выгодой ради родины». Митрополит Сергий определял и задачи духовенства: «Нам пастырям Церкви, в такое время, когда Отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией»
(4).
Митрополитам Сергию, Алексию, Николаю не препятствовали распространять свои патриотические воззвания, хотя это и являлось нарушением закона. Митрополит Сергий прозорливо разглядел сатанинскую сущность фашизма. Свое понимание он выразил в Послании от 11 ноября 1941 года: «Всему миру ясно, что фашистские изверги являются сатанинскими врагами веры и христианства. Фашистам, с их убеждениями и деяниями, конечно, совсем не по пути за Христом и за христианской культурой». Уже позднее, в Пасхальном послании 1942 г. митрополит Сергий напишет: «Тьма не победит света… Тем более не победить фашистам, возымевшим дерзость вместо Креста Христова признать своим знаменем языческую свастику… Не забудем слов: «Сим победиши». Не свастика, а Крест призван возглавить христианскую культуру, наше «христианское жительство». . В фашистской Германии утверждают, что христианство не удалось и для будущего мирового прогресса не годится. Значит Германия, предназначенная владеть миром будущего, должна забыть Христа и идти своим, новым путем. За эти безумные слова да поразит праведный Судия и Гитлера, и всех соумышленников его» (5).
 Действительно, Советский Союз был государством антихристианским, но не антихристовым, был атеистическим, но не оккультным. Напротив, система государственной власти Третьего рейха, выстраиваемая Гитлером, была оккультной и антихристовой по своей сути. «Потрясающая новизна нацистской Германии в том, что магическая мысль впервые взяла себе в помощники науку и технику… Гитлеризм – это, в известном смысле, магия плюс бронированные дивизии»
(6). Но дело здесь не только в обращении к германским языческим образам и в оккультных программах типа «Аненербе», на которые в Третьем рейхе тратились огромные деньги и силы. Опасно было то, что языческий оккультизм гитлеровские пропагандисты стремились смешать с христианством: образ Неизвестного солдата кощунственно совмещался с ликом Христа, сам Гитлер являлся своим адептам в облике Мессии (7), т.н. копье сотника Лонгина, пронзившее сердце Христово, в руках Гитлера стало магическим талисманом, а на пряжках ремней солдат, шедших убивать, грабить и зверствовать над мирным населением, были написаны слова из мессианского пророчества Исаии: «С нами Бог»
(Ис. 8:8). Крест на немецких самолетах, бомбивших школы и госпитали, явился одним из омерзительнейших кощунств над Животворящим Крестным Древом в истории, но также и знамением псевдохристианской, а на последней глубине – антихристовой западноевропейской цивилизации. То, что одной из конечных целей нацистов являлось провозглашение Гитлера мессией и признание его таковым покоренными народами всей земли, показывает следующая кощунственная молитва по подобию «Отче наш», активно распространявшаяся в листовках: «Адольф Гитлер, ты наш вождь, имя твое наводит трепет на врагов, да приидет третья империя твоя. И да осуществится воля твоя на земле»
(8).
Действительно, Советский Союз был государством антихристианским, но не антихристовым, был атеистическим, но не оккультным. Напротив, система государственной власти Третьего рейха, выстраиваемая Гитлером, была оккультной и антихристовой по своей сути. «Потрясающая новизна нацистской Германии в том, что магическая мысль впервые взяла себе в помощники науку и технику… Гитлеризм – это, в известном смысле, магия плюс бронированные дивизии»
(6). Но дело здесь не только в обращении к германским языческим образам и в оккультных программах типа «Аненербе», на которые в Третьем рейхе тратились огромные деньги и силы. Опасно было то, что языческий оккультизм гитлеровские пропагандисты стремились смешать с христианством: образ Неизвестного солдата кощунственно совмещался с ликом Христа, сам Гитлер являлся своим адептам в облике Мессии (7), т.н. копье сотника Лонгина, пронзившее сердце Христово, в руках Гитлера стало магическим талисманом, а на пряжках ремней солдат, шедших убивать, грабить и зверствовать над мирным населением, были написаны слова из мессианского пророчества Исаии: «С нами Бог»
(Ис. 8:8). Крест на немецких самолетах, бомбивших школы и госпитали, явился одним из омерзительнейших кощунств над Животворящим Крестным Древом в истории, но также и знамением псевдохристианской, а на последней глубине – антихристовой западноевропейской цивилизации. То, что одной из конечных целей нацистов являлось провозглашение Гитлера мессией и признание его таковым покоренными народами всей земли, показывает следующая кощунственная молитва по подобию «Отче наш», активно распространявшаяся в листовках: «Адольф Гитлер, ты наш вождь, имя твое наводит трепет на врагов, да приидет третья империя твоя. И да осуществится воля твоя на земле»
(8).

Весьма значимо то, что по большому счету только предстоятели большинства Православных церквей осудили фашизм: Ватикан хранил молчание и по поводу нацистских захватов (в т.ч. католических стран), и по поводу истребления целых народов (не только и не столько евреев, но прежде всего славян – русских, сербов, белорусов). Более того, некоторые католические иерархи не только благословляли нацистский террор, но и активно участвовали в нем, например, хорватский кардинал Загреба Кватерник. Не случайно то, что именно православные страны – Югославия, Греция, Россия – и православные народы стали объектами нацистской агрессии: в этом сказался антиправославный и христоборческий дух Западной Европы, шедшей под предводительством Гитлера в крестовый поход на Восток. Мы вовсе не хотим сказать, что рядовые католические или протестантские священнослужители не страдали от фашизма, вовсе нет, напротив, в одной Польше только до января 1941 было убито 700 католических священников, 3000 было заключено в концентрационные лагеря (9), но Ватикан никак не реагировал на доклады Польского архиепископа Глонды.
 Что же касается руководителей некоторых протестантских церквей, в особенности в Германии, то они прямо признали Гитлера как богодарованного вождя. Хотя, впрочем, и там были единичные случаи сопротивления. На этом фоне осуждение фашизма с христианских позиций было исключительно важным.
Что же касается руководителей некоторых протестантских церквей, в особенности в Германии, то они прямо признали Гитлера как богодарованного вождя. Хотя, впрочем, и там были единичные случаи сопротивления. На этом фоне осуждение фашизма с христианских позиций было исключительно важным.
Русская Православная Церковь сыграла большую роль не только в мобилизации русского народа, но и в организации помощи со стороны союзников, а косвенно - и в открытии Второго фронта. Уже в Послании, посвященном первой годовщине нападения фашистской Германии на СССР, митрополит Сергий пишет: «В борьбе с фашистами мы не одиноки. На днях из Америки из Нью-Йорка к нам поступила телеграмма от Комитета по военной помощи русским. Пятнадцать тысяч религиозных общин США устроили 20-21 июня (канун начала войны) особые моления за русских христиан, чтобы запечатлеть память о сопротивлении русских фашистским нашественникам и чтобы поддержать в американском народе помощь русским в их борьбе против агрессоров» (10). Русская Православная Церковь в немалой степени способствовала созданию положительного образа Советской России среди союзников. Даже немецкая разведка отмечала успешность воздействия на союзников фактора возрождения Церкви в СССР.
Многое сделала Русская Православная Церковь, чтобы духовно укрепить и ободрить движение Сопротивления в Европе. В посланиях митрополита Николая (Ярушевича) к славянам и другим православным народам, оккупированным фашизмом, видна горячая любовь к православным и единокровным братьям, в них сквозит пламенный призыв к сопротивлению фашистам:
«Мы усиленно молим Господа, чтобы Он и на остающееся время войны поддержал ваши силы и ваше мужество. Пусть еще ярче разгорится у вас светильник Православия, еще пламеннее будет ваша любовь к родине и ее свободе, еще непримиримее ваше отвращение ко всяким попыткам смягчить, если не сломить ваше противление врагу и его жалким слугам.
Неужели сербы, не один раз за веру и отечество всенародно полагавшие свою жизнь, когда-нибудь успокоятся под фашистским сапогом? Неужели замолкнет когда-нибудь их орлиный клич: «Пусть Душан знает, что сербы живы, сербы свободны?». Неужели православный греческий народ может остаться на фашистской цепи? (11)... Братья-славяне! Приблизился час великих событий на фронтах. Предстоят решающие бои. Пусть не будет ни одного среди нас, кто бы не содействовал всеми своими силами и возможностями победному разгрому нашего общего ненавистного врага: и на полях брани, и в тылу, и мощными ударами народных мстителей-партизан. Будем все, как один» .
 Особое значения в деле идеологической борьбы против фашизма и его союзников имели послания митрополита Киевского и Галицкого Николая (Ярушевича) к румынским пастырям и пастве, а также к румынским солдатам:
Особое значения в деле идеологической борьбы против фашизма и его союзников имели послания митрополита Киевского и Галицкого Николая (Ярушевича) к румынским пастырям и пастве, а также к румынским солдатам:
«Какова роль в современной войне простого румынского народа, румынских православных христиан, что их ожидает впереди? Они наверняка не приняли участия в антихристианском и разбойничьем торге, именуемом «новым порядком в Европе», а явились жертвами политических интриг своих правителей. Что может быть общего у румынских православных христиан с гитлеровцами, возрождающими культ почитания языческого бога Вотана?» (12) … «А мы, русские, братья с вами по вере, братья по мирному соседству. Румынский солдат не может забывать того, что кровью русских солдат в войне 1877-78 годов была завоевана государственная независимость и свобода национального существования Румынии… Ваш христианский долг – немедленно оставить немецкие ряды и перейти на сторону русских, чтобы искупить великий грех соучастия в преступлениях немцев и содействовать делу поражения врага человечества» (13).
Можно говорить о многих видах патриотической деятельности Русской Православной Церкви. Прежде всего, это богослужебная и проповедническая деятельность, зачастую в прифронтовой полосе и под вражеским обстрелом. В решающие моменты Сталинградской битвы митрополит Киевский и Галицкий Николай служил молебны перед Казанской иконой Божией Матери (14).
Особенно велик был подвиг ленинградского духовенства. Богослужения в соборах и кладбищенских церквях совершались под артобстрелом и бомбежками, но по большей части ни клир, ни верующие не уходили в убежища, только дежурные постов ПВО становились на свои места. Едва ли не страшнее бомб были холод и голод. Службы шли при лютом морозе, певчие пели в пальто. От голода к весне 1942 года из 6 клириков Преображенского собора в живых осталось лишь двое. И тем не менее, оставшиеся в живых священники, по большей части преклонного возраста, несмотря на голод и холод, продолжали служить. Вот как вспоминает И.В.Дубровицкая о своем отце-протоиерее Владимире Дубровицком: «Всю войну не было дня, чтобы отец не вышел на работу. Бывало, качается от голода, я плачу, умоляя его остаться дома, боюсь – упадет, замерзнет где-нибудь в сугробе, а он в ответ: «Не имею я права слабеть, доченька. Надо идти, дух в людях поднимать, утешать в горе, укрепить, ободрить» (15).

Следствием самоотверженного служения клира в блокадном Ленинграде явился подъем религиозности народа. В страшную блокадную зиму священники отпевали по 100-200 человек. В 1944 году над 48% покойников было совершено отпевание. Процесс религиозного подъема охватил всю Россию. Сводки НКВД сообщали о присутствии на пасхальном богослужении 15 апреля 1944 г. большого количества военных: в Троицкой Церкви г. Подольска – 100 человек, в церкви св. Александра Невского (пос. Бирюлево, Ленинского р-на) – 275 человек и т.д. (16) К вере приходили (или о ней вспоминали) и простые солдаты, и военачальники. Из свидетельств современников известно, что начальник Генерального штаба Б.М. Шапошников (бывший полковник царской армии) носил образ святителя Николая и молился: «Господи, спаси Россию и мой народ». Г.К.Жуков всю войну провозил с собою Казанскую икону Божией Матери, которую он затем пожертвовал в один из киевских храмов. Свою веру прилюдно выражал маршал Л.А.Говоров, командующий Ленинградским фронтом. Часто храмы посещал герой Сталинградской битвы генерал В.И.Чуйков.
 Особенно поразительны были случаи прихода к вере из комсомольского атеизма. Показательно стихотворение, найденное в шинели простого русского солдата Андрея Зацепы, убитого в 1942 году:
Особенно поразительны были случаи прихода к вере из комсомольского атеизма. Показательно стихотворение, найденное в шинели простого русского солдата Андрея Зацепы, убитого в 1942 году:
«Послушай, Бог, еще ни разу в жизни
С тобой не говорил я, но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя…
Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня я смотрел
Из кратера, что выбила граната
На небо звездное, что было надо мной.
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем,
Каким жестоким может быть обман…
Не странно ль, что средь ужасающего ада
Мне вдруг открылся свет и я узнал Тебя.
На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно. Ты на нас глядишь…
Но, кажется, я плачу, Боже мой. Ты видишь,
Со мной случилось то, что нынче я прозрел.
Прощай, мой Бог. Иду и вряд ли уж вернусь
Как странно, но теперь я смерти не боюсь»
(17).
О массовости подъема религиозных настроений в армии свидетельствует, например, такая просьба, направленная телеграммой в Главное политуправление РККА с 4-го Украинского фронта, заверенная подполковником Лесновским: «По встретившейся надобности, в самом срочном порядке выслать материалы Синода для произнесения в день празднования годовщины Октября, а также ряд других руководящих материалов Православной Церкви» (18). Подобное, казалось бы парадоксальное сочетание советского и православного начал было нередким для тех лет; вот письмо солдата М.Ф.Черкасова: «Мама, я вступил в партию… Мама, помолись за меня Богу» (19).
Многие священники не только своим церковным служением, но и воинским подвигом внесли свой вклад в Победу. Следует отметить прямое участие сотен священнослужителей в боевых действиях, в том числе и тех, кто до войны отбыл срок в лагере и ссылке, или шел прямо из лагеря. Здесь может возникнуть несколько щекотливый вопрос: насколько это соотносится с канонами, запрещающими священнослужителям, совершающим Бескровную Жертву, проливать кровь. Следует отметить, что каноны создавались для конкретной эпохи и конкретной ситуации Восточно-Римской империи, когда недопустимо было смешивать священнослужение и военное ремесло, но превыше канонов стоят евангельские заповеди, в том числе и следующая: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанн 15, 13). В истории Церкви было немало случаев, когда священнослужителям приходилось брать в руки оружие: оборона Троице-Сергиевой Лавры и Смоленска, вооруженная борьба сербских и черногорских священников, и даже митрополитов против турецких поработителей и т.д.
В обстановке нацистского вторжения, несшего в конечном счете оккультизм и физическое уничтожение славянских и других народов, оставаться в стороне от вооруженной борьбы было недопустимо, к тому же большинство священников шло в армию по послушанию властям. Многие из них прославились подвигами и были отмечены наградами. Вот хотя бы несколько портретов. Уже побывав в заключении, С.М.Извеков, будущий Патриарх Московский и всея Руси Пимен в самом начале войны стал заместителем командира роты, прошел всю войну и завершил ее в звании майора. Наместник Псково-Печерского монастыря в пятидесятые – первой половине семидесятых годов ХХ века архимандрит Алипий (Воронов) – талантливый иконописец и деятельный пастырь – будучи уже в сане оборонял Москву, воевал все четыре года, был ранен несколько раз, награжден боевыми орденами. Будущий митрополит Калининский и Кашинский Алексий (Коноплев) на фронте был пулеметчиком, в 1943 году он вернулся к священнослужению с медалью «За боевые заслуги». Протоиерей Борис Васильев, до войны диакон Костромского Кафедрального собора, в Сталинграде командовал взводом разведки, а затем воевал в должности заместителя начальника полковой разведки (20). В отчете уполномоченного Совнаркома по делам религии Г.Карпова указывался ряд награжденных священнослужителей: так, священник Ранцев (Татарская АССР) был награжден орденом Красной Звезды, протодиакон Зверев и диакон Хитков – каждый четырьмя боевыми медалями и т.д. (21)
Русская Православная Церковь много делала не только для воодушевления воинов, но и для развития партизанского движения. Вот что в частности писал местоблюститель митрополит Сергий 22 июня в годовщину начала войны: «В памяти жителей мест, временно занятых врагом, несомненно жива вековая борьба православного казачества и его заслуги перед Церковью и Родиной…. В настоящее время встают из нашей среды сотни и тысячи народных героев, ведущих отважную борьбу в тылу врага. Будем же достойны и этих священных воспоминаний старины, и этих современных героев: «не посрамим земли русской» , как говорили в старину. Может быть, не всякому можно вступить в партизанские отряды и разделять и их горе, опасности и подвиги, но всякий может и должен считать дело партизан своим собственным, личным делом, окружать их своими заботами, снабжать их оружием и пищей, и всем, что есть, укрывать их от врага и вообще помогать им всячески» (22).
 Священнослужители принимали активное участие в партизанском движении, особенно в Белоруссии, и многие из них заплатили за это жизнью. В одной только Полесской епархии более половины священников (55%) было расстреляно за содействие партизанам (23). Некоторые священники, такие как о. Василий Капычко, «партизанский поп»
(которого автор знал лично), священнодействовали в белорусских партизанских отрядах, исповедовали, причащали. Формы содействия были самыми разнообразными: священники укрывали отставших при отступлении от частей красноармейцев, бежавших военнопленных, как например священник Говоров в Курской области, скрывавший у себя бежавших из плена летчиков (24). Духовенство вело патриотическую агитацию, и занимались сбором средств на танковую колонну «Дмитрий Донской». Пример тому – гражданский подвиг священника Феодора Пузанова из села Бродовичи-Заполье, который смог на оккупированной немцами Псковской области собрать денег и ценностей на полмиллиона рублей и переправить их через партизан на большую землю (25). Многие из священнослужителей воевали в партизанских отрядах, нескольким десяткам из них позднее была вручена медаль: «Партизану Великой Отечественной войны». Так, протоиерей Александр Романушко из Полесья с 1942 по 1944 годы лично участвовал в партизанских боевых операциях, лично ходил в разведку. В 1943 году, когда хоронили убитого полицая, при всем народе и вооруженных товарищах убитого о. Александр сказал: «Братья и сестры, я понимаю большое горе отца и матери убитого, но не наших молитв и «Со святыми упокой» своею жизнью заслужил во гробе предлежащий. Он – изменник Родины и убийца невинных детей и стариков. Вместо «Вечной памяти» произнесем же: «Анафема»»
. А затем, подойдя к полицаям, призвал их искупить свою вину и обратить оружие против немцев. Эти слова настолько впечатлили людей, что многие прямо с кладбища ушли в партизаны (26).
Священнослужители принимали активное участие в партизанском движении, особенно в Белоруссии, и многие из них заплатили за это жизнью. В одной только Полесской епархии более половины священников (55%) было расстреляно за содействие партизанам (23). Некоторые священники, такие как о. Василий Капычко, «партизанский поп»
(которого автор знал лично), священнодействовали в белорусских партизанских отрядах, исповедовали, причащали. Формы содействия были самыми разнообразными: священники укрывали отставших при отступлении от частей красноармейцев, бежавших военнопленных, как например священник Говоров в Курской области, скрывавший у себя бежавших из плена летчиков (24). Духовенство вело патриотическую агитацию, и занимались сбором средств на танковую колонну «Дмитрий Донской». Пример тому – гражданский подвиг священника Феодора Пузанова из села Бродовичи-Заполье, который смог на оккупированной немцами Псковской области собрать денег и ценностей на полмиллиона рублей и переправить их через партизан на большую землю (25). Многие из священнослужителей воевали в партизанских отрядах, нескольким десяткам из них позднее была вручена медаль: «Партизану Великой Отечественной войны». Так, протоиерей Александр Романушко из Полесья с 1942 по 1944 годы лично участвовал в партизанских боевых операциях, лично ходил в разведку. В 1943 году, когда хоронили убитого полицая, при всем народе и вооруженных товарищах убитого о. Александр сказал: «Братья и сестры, я понимаю большое горе отца и матери убитого, но не наших молитв и «Со святыми упокой» своею жизнью заслужил во гробе предлежащий. Он – изменник Родины и убийца невинных детей и стариков. Вместо «Вечной памяти» произнесем же: «Анафема»»
. А затем, подойдя к полицаям, призвал их искупить свою вину и обратить оружие против немцев. Эти слова настолько впечатлили людей, что многие прямо с кладбища ушли в партизаны (26).
Духовенство участвовало в рытье окопов, организации противовоздушной обороны, в том числе и в блокадном Ленинграде. Вот всего один из примеров: в справке, выданной 17 октября 1943 г. архимандриту Владимиру (Кобецу) Василеостровским райжилуправлением, говорилось: «Состоит бойцом группы самозащиты дома, активно участвует во всех мероприятиях обороны Ленинграда, несет дежурства, участвует в тушении зажигательных бомб».
Зачастую священнослужители своим личным примером призывали прихожан к наиболее неотложным работам, прямо с воскресных служб отправляясь на колхозные работы. Одним из направлений патриотической работы явилось шефство над госпиталями и попечение о больных и раненых. В прифронтовой полосе при храмах существовали убежища для стариков и детей, а также – перевязочные пункты, особенно важные в период отступлений 1941-42 г., когда многие церковные приходы взяли на себя заботу о брошенных на произвол судьбы раненых.
Сразу после освобождения Киева (6 ноября 1943 г.) Покровский женский монастырь исключительно на свои средства и своими силами оборудовал госпиталь, который целиком обслуживали в качестве медсестер и санитарок сестры монастыря. Когда монастырский госпиталь стал военным эвакогоспиталем, сестры продолжали работать в нем и делали это до 1946 г. За этот подвиг монастырь получил ряд правительственных благодарностей. И это – не единственный случай (27).
 Особой страницей является деятельность выдающегося хирурга архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). Во время своей Красноярской ссылки, в начале войны, он по собственному почину, встречая сопротивление властей, стал работать в эвакогоспитале в Красноярске, впоследствии заняв должность главного хирурга. С 1943 года, став епископом Тамбовским, возглавил Тамбовский эвакогоспиталь, где работал вплоть до 1945 года, ежедневно делая по нескольку операций. Благодаря его трудам, были спасены и вылечены тысячи красноармейцев. В операционной у него висела икона, операции он не начинал без молитвы. Показателен следующий факт: когда ему вручали награду за самоотверженный труд, то выразили надежду, что он и далее будет оперировать и консультировать. На это Владыка сказал: «Я всегда стремился служить народу и спасать людей. И я спас бы их гораздо больше, если бы вы не таскали меня по тюрьмам и лагерям». Все обомлели. Потом кто-то из начальства робко заметил, что нельзя так уж все припоминать, надо иногда и забывать. И снова раздался громовой бас Владыки: «Ну уж нет. Этого я никогда не забуду»
. За фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии» архиепископ Лука в 1945 г. был удостоен Сталинской премии I степени, большую часть которой он пожертвовал на помощь сиротам.
Особой страницей является деятельность выдающегося хирурга архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). Во время своей Красноярской ссылки, в начале войны, он по собственному почину, встречая сопротивление властей, стал работать в эвакогоспитале в Красноярске, впоследствии заняв должность главного хирурга. С 1943 года, став епископом Тамбовским, возглавил Тамбовский эвакогоспиталь, где работал вплоть до 1945 года, ежедневно делая по нескольку операций. Благодаря его трудам, были спасены и вылечены тысячи красноармейцев. В операционной у него висела икона, операции он не начинал без молитвы. Показателен следующий факт: когда ему вручали награду за самоотверженный труд, то выразили надежду, что он и далее будет оперировать и консультировать. На это Владыка сказал: «Я всегда стремился служить народу и спасать людей. И я спас бы их гораздо больше, если бы вы не таскали меня по тюрьмам и лагерям». Все обомлели. Потом кто-то из начальства робко заметил, что нельзя так уж все припоминать, надо иногда и забывать. И снова раздался громовой бас Владыки: «Ну уж нет. Этого я никогда не забуду»
. За фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии» архиепископ Лука в 1945 г. был удостоен Сталинской премии I степени, большую часть которой он пожертвовал на помощь сиротам.
Большое значение имели сборы средств Церковью на помощь армии, а также на помощь сиротам и восстановление разоренных областей страны. Митрополит Сергий практически нелегально начал церковные сборы на оборону страны. Пятого января 1943 года он послал Сталину телеграмму, прося его разрешения на открытие Церковью банковского счета, на который вносились бы все деньги, пожертвованные на оборону во всех храмах страны. Сталин дал свое письменное согласие и от лица Красной Армии поблагодарил Церковь за ее труды. Телеграмма митрополита Ленинградского Алексия И. В. Сталину 13 мая 1943 г.:
«Ленинградская епархия, выполняя данное Вам обещание всемерно продолжать свою помощь нашей доблестной Красной Армии и осуществляя Ваш призыв всячески содействовать обороноспособности нашей Родины, собрала и внесла дополнительно к ранее перечисленным 3 682 143 рублям ещё 1 769 200 рублей и продолжает сбор средств на танковую колону имени Дмитрия Донского. Духовенство и верующие преисполнены твёрдой веры в близкую победу нашу над злобным фашизмом, и все мы уповаем на помощь Божию Вам и русскому воинству под Вашим верховным водительством, защищающему правовое дело и несущему свободу нашим братьям и сестрам, подпавшим временно под тяжкое иго врага. Молю Бога ниспослать Отечеству нашему и Вам Свою победительную силу».

А всего православные жители Ленинграда пожертвовали около 16 миллионов рублей. Сохранилась история о том, как неизвестный богомолец положил во Владимирском соборе под иконой Святителя Николая сто пятьдесят золотых николаевских червонцев: для голодающего города это было целое сокровище (29).
 Наименование танковой колонны «Димитрий Донской», равно как и эскадрильи «Александр Невский», не случайно: в своих проповедях митрополит Ленинградский Алексий постоянно подчеркивал, что эти святые одерживали победы не просто благодаря своему патриотизму, но благодаря «глубокой вере русского народа, что Бог поможет в правом деле… Так и теперь мы верим поэтому, что все небесные силы с нами». На церковные шесть миллионов было построено 40 танков, составивших колонну «Дмитрий Донской». Средства на нее собирались не только в блокадном Ленинграде, но и на оккупированной территории.
Наименование танковой колонны «Димитрий Донской», равно как и эскадрильи «Александр Невский», не случайно: в своих проповедях митрополит Ленинградский Алексий постоянно подчеркивал, что эти святые одерживали победы не просто благодаря своему патриотизму, но благодаря «глубокой вере русского народа, что Бог поможет в правом деле… Так и теперь мы верим поэтому, что все небесные силы с нами». На церковные шесть миллионов было построено 40 танков, составивших колонну «Дмитрий Донской». Средства на нее собирались не только в блокадном Ленинграде, но и на оккупированной территории.
Примечательно слово, сказанное Николаем, митрополитом Крутицким и Коломенским при передаче танковой колонны частям Красной Армии, и ответ красноармейцев. Митрополит обратился так: «Гоните ненавистного врага из нашей Великой Руси. Пусть славное имя Дмитрия Донского ведет вас на битву за священную Русскую землю! Вперед к победе, братья-воины!». В ответ командование части заявило следующее: «Выполняя Ваш наказ, рядовые, сержанты и офицеры нашей части на врученных Вами танках, полные любви к своей матери-Родине, громят заклятого врага, изгоняя его с нашей земли».
При этом следует отметить, что колонна «Дмитрий Донской» и эскадрилья «Александр Невский» лишь капля в море церковных пожертвований. В общей сложности они составили не менее четырехсот миллионов рублей, не считая вещей, ценностей, и в ряде случаев целенаправленно направлялись на создание того или иного танкового или авиационного подразделения. Так, православные верующие Новосибирска пожертвовали более 110 000 рублей на сибирскую эскадрилью «За Родину».
В достаточно сложных условиях оказалась иерархия на территории, оккупированной немцами. Неправильно говорить о том, что немцы открывали церкви на оккупированной территории: на самом деле они лишь не препятствовали их открытию верующими. Вкладывали же силы и средства, часто последние, русские, украинцы и белорусы – жители оккупированных территорий. В политике немцев на оккупированных территориях сталкивались две линии: одна – от представителей средних (лишь отчасти и высших) военных кругов, заинтересованных в лояльности населения оккупированных областей, а следовательно, и в единой канонической церковной организации. Другая линия, исходившая от Розенберга и Гитлера, была нацелена на деморализацию, разобщение, в конечном счете, уничтожение русских людей и, следовательно, инициировала религиозный хаос и церковный раскол. Вот что говорил Гитлер на совещании 11 апреля 1942 года: «Необходимо запретить устройство единых церквей для сколько-нибудь значительных русских территорий. Нашим интересам соответствовало бы такое положение, при котором каждая деревня имела бы собственную секту, где развивались бы свои особые представления о боге. Даже если в этом случае в отдельных деревнях возникнут шаманские культы, подобно негритянским или американо-индейским, то мы могли бы это только приветствовать, ибо это лишь увеличило бы количество факторов, дробящих русское пространство на мелкие единицы» (30). Цитата достаточно красноречивая и весьма злободневная. Не то же ли происходит сейчас на территории Российской Федерации, Украины и Белоруссии, когда лишь по официальным данным насчитывается несколько сотен сект с числом адептов до миллиона, и большинство из них создано на западные деньги?

Исходя из гитлеровских инструкций, германские власти стремились всячески расколоть Церковь на оккупированных территориях. Немецкая политика в отношении Православной Церкви в Белоруссии была сформулирована Розенбергом после свидания с Гитлером и Борманом. 8 мая 1942 года Розенберг писал своим двум рейхскомиссарам, что Русская Православная Церковь не должна распространять свое влияние на православных белорусов, и её деятельность не должна простираться за границу расселения великороссов. Эта политика привела к полному отделению так называемой Белорусской автономной Церкви от Экзархата в Прибалтике. Немцы навязывали независимость (автокефалию) Церкви в Белоруссии, но епископат во главе с митрополитом Пантелеимоном в конечном счете её не принял.
На Украине, благодаря подогреваемому ещё с 1914 г. Германским генштабом националистическому фактору, Церковь удалось расколоть. Помимо канонической Украинской автономной Церкви во главе с митрополитом Алексием (Громадским), была образована антирусская автокефальная церковь во главе с митрополитом Поликарпом (Сикорским), целиком поддержавшая фашистов. Против митрополита Алексия (Громадского) всё время велась усиленная агитация как против врага Украины, и он был 7 мая 1943 г. убит из засады возле Почаевской Лавры бандеровцами. В августе того же 1943 года был повешен бандеровцами епископ Мануил (Тарновский), принадлежащий к иерархии канонической Украинской Церкви (31). Большинство епископата сохранило верность Московскому Патриархату, но даже некоторые из тех, кто вышел из канонического подчинения, такие как епископ Пинский и Полесский Александр, тайно помогали партизанам –продуктами и медикаментами.
Особого внимания достоин феномен митрополита Виленского и Литовского Сергия (Воскресенского), Экзарха Московского Патриархата в Прибалтике. Необходимо отметить, что ему удалось сохранить единство, несмотря на все давление немцев. Его взаимоотношения с немцами строились всецело на антикоммунистической, а не антирусской почве. Арестованный гестапо сразу после оккупации Риги, митрополит Сергий скоро был освобождён, убедив немцев в своём антикоммунизме, и добился разрешения на открытие Миссии РПЦ. Сам он рассматривал свое т.н. сотрудничество с немцами как сложную игру для блага Церкви и России. Он часто говорил: «Не таких обманывали, с НКВД справлялись, а этих колбасников обмануть не трудно» (32). Псковская миссия охватывала огромную территорию от Пскова до Ленинграда. Успехи Миссии превзошли все ожидания. В результате только на территории Псковской области было открыто 200 храмов. Благодаря Миссии были крещены десятки тысяч русских людей, тысячи получили начатки религиозного образования. В Пскове, Риге и Вильнюсе были открыты богословские курсы, на которых получили богословское образование десятки будущих пастырей Русской Православной Церкви. Один из членов Миссии о. Алексий Ионов подчёркивал, что работа велась без каких-либо директив от оккупационных властей: «Со стороны немецких властей никаких инструкций специального или специфического характера Миссия не получила. Если бы эти инструкции были даны или навязаны, вряд ли наша Миссия состоялась. Я хорошо знал настроение членов Миссии» (33). В просветительской деятельности Псковской миссии явно выражалось патриотическое начало: ее катехизаторы и учителя призывали к возрождению России «единой и неделимой» в противовес расистской линии Гитлера-Розенберга, предпочитавших видеть Россию расчлененной на ряд марионеточных республик и генерал-губернаторств. Тем не менее, встреча с партизанами для члена Миссии заканчивалась смертью.

Самым значительным событием была передача Церкви Тихвинской иконы Божией Матери. Икона была спасена из сгоревшего храма в Тихвине и передана Церкви немцами, которые постарались использовать передачу в пропагандистских целях. На соборной площади Пскова была воздвигнута платформа, а на ней аналой, куда водрузили икону. Там, при огромном собрании народа, секретарь Миссии священник Георгий Бенигсен бесстрашно произнёс проповедь, в которой говорил о подвиге св. князя Александра Невского, освободившего Псков и Новгород от иноземного нашествия (34).
Просуществовала Миссия с августа 1941 г. по февраль 1944 г. Сам митрополит Сергий был убит офицерами СД весной накануне Пасхи 1944 года за свою патриотическую деятельность. Все причастные к деятельности Миссии, оставшиеся на территории СССР, были впоследствии арестованы и направлены в лагеря на почти верную смерть. «И сегодня, - справедливо писал один из миссионеров, - нашу борьбу хотят изобразить как сотрудничество с фашистами. Бог судья тем, кто хочет запятнать наше святое и светлое дело, за которое одни из наших работников, в том числе священники и епископы, погибли от пуль большевистских агентов, других арестовывало и убивало гитлеровское гестапо» .
Недавно скончавшийся духовник Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии архимандрит Кирилл (Начис) 13 октября 1950 года был арестован МГБ за работу в Псковской Миссии. Осуждён ОСО на десять лет ИТЛ. Отбывал срок в лагере Минеральный. Освобождён из лагеря 15 октября 1955 года. Реабилитирован 21 мая 1957 года. Окончил Ленинградскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия, был профессорским стипендиатом, преподавателем семинарии и Академии, принял священный сан, пострижен в монашество, возведен в сан архимандрита (1976 г.) (35).
Как и весь русский народ, Русская Православная Церковь тяжело пострадала во время Великой Отечественной войны. По далеко неполным и неточным оценкам комиссии по расследованию немецко-фашистских злодеяний, немцами было уничтожено или разрушено 1670 церквей и 69 часовен. Если с одной стороны, под это число подпало большое количество храмов, разрушенных коммунистами до войны, то с другой стороны, в нем не учитывались все скромные деревенские церкви, сожженные вместе с запертым в них народом карателями в Белоруссии и на Украине. Зачастую немецкие зондеркоманды собирали в белорусских деревнях весь народ в церковь, отфильтровывали молодых и крепких и угоняли на работу в Германию, а оставшихся запирали в церкви и сжигали. Такая трагедия произошла, например, 15 февраля 1943 года в селе Хворостово Минской области, когда во время Сретенского богослужения, немцы загнали всех жителей в храм, якобы на молитву. Предчувствуя недоброе, настоятель церкви о. Иоанн Лойко призвал прихожан всех усердно молиться и причаститься Святых Христовых Таин. Во время пения «Верую» стали силой выводить из церкви молодых женщин и девушек для отправки в Германию. О. Иоанн попросил офицера не прерывать богослужения. В ответ фашист сбил его с ног. А затем двери храма были забиты и к нему подъехало несколько саней с соломой… Позднее полицаи показывали на суде, что из горящей церкви раздавалось всенародное пение «Тело Христово приимите, Источника Бессмертного вкусите» . И это лишь один из многих сотен подобных случаев.
Личным примером духовенство РПЦ призывало к мобилизации всех сил в помощь обороне и укреплению тыла. Всё это не могло не оказать воздействия и на религиозную политику советского правительства. В начале войны полностью прекратилась антирелигиозная пропаганда, была свёрнута деятельность «Союза воинствующих безбожников». Сталин порекомендовал «главному безбожнику» Е. Ярославскому (Губельману) публично отметить патриотическую позицию Церкви. Тот не посмел ослушаться и после долгих сомнений 2 сентября подготовил статью «Почему религиозные люди против Гитлера» , правда, подписал её трудноузнаваемым псевдонимом Каций Адамиани (36).

Переломный момент в отношениях между Церковью и государством произошёл в 1943 г. Так, газета «Известия» сообщала: «4 сентября у Председателя Совета Народных Комиссаров СССР товарища И. В. Сталина состоялся приём, во время которого имела место беседа с Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием, Ленинградским митрополитом Алексием и Экзархом Украины Киевским и Галицким митрополитом Николаем. Во время беседы митрополит Сергий довёл до сведения Председателя Совнаркома, что в руководящих кругах Православной Церкви имеется намерение в ближайшее время созвать Собор епископов для избрания Патриарха Московского и всея Руси и образования при Патриархе Святейшего Синода. Глава Правительства товарищ И. В. Сталин сочувственно отнёсся к этим предложениям и заявил, что со стороны Правительства не будет к этому препятствий. При беседе присутствовал Заместитель Председателя Совнаркома СССР тов. В. М. Молотов» (37).
Число убитых священнослужителей в войну не поддается подсчету, тем более что трудно отделить погибших в войну от репрессированных, и, по большому счету, до последнего пятнадцатилетия никто подобными исследованиями не занимался. Лишь изредка в литературе о Великой Отечественной войне мелькали сведения о погибших священнослужителях, чаще всего – одной-двумя строчками. Например: «Расстрелян священник Александр Новик с женой и детьми… Сожжен священник Назоревский с дочерью… Убит 72-летний протоиерей Павел Сосновский с 11-летним мальчиком… После мучительных пыток расстрелян 47-летний священник о. Павел Щерба» (38).
Более того, хрущевско-брежневская власть и ее пропагандисты зачастую оказывались неблагодарными к тем, кто сражался за Родину и полагал за нее жизнь, если они были священнослужителями. Одним из свидетельств этого является памятник сожженным в селе Хворостово (Полесье), где среди всех поименно названных жертв нет только одного имени – священника Иоанна Лойко. Из военно-документальной литературы целенаправленно изымались свидетельства о священниках-воинах, священниках-партизанах. Например, в книге И. Шубитыдзе «Полесские были», изданной в Минске в 1969 г., имена священнослужителей упоминались, а в издании 1974 г. – нет. В обширных трудах по истории Великой Отечественной войне вклад Церкви в победу целенаправленно замалчивался, а иногда писались и явно клеветнические книги наподобие «Союз меча и креста» (1969 г). Только в последнее время стали появляться публикации, правдиво и объективно освещающие роль Русской Православной Церкви в войне, особенно следует выделить труды М.В.Шкаровского.
В заключение, хотелось бы сказать, что Великая отечественная для нас не кончилась, она продолжается с огромными потерями сегодня, только пока без бомбежек и артобстрелов. Поясню свои слова. На совещании в ставке за несколько дней до начала войны, 16 июня 1941 года, Гитлер говорил: «Мы должны сознательно проводить политику на сокращение населения. Средствами пропаганды, особенно через прессу, радио, кино, листовки, доклады постоянно внушать населению мысль о том, что вредно иметь много детей. Нужно показывать, каких больших средств стоит воспитание детей и что можно было бы приобрести на эти средства. Должна быть развернута широчайшая пропаганда противозачаточных средств. Следует всячески способствовать расширению сети абортариев… Не оказывать никакой поддержки детским садам и другим подобным учреждениям… Никакой помощи многодетным семьям… На всей русской территории всячески способствовать развитию и пропаганде употребления спиртных напитков в широком ассортименте и в любое время… Эта масса расово неполноценных, тупых людей нуждается в алкоголизме и руководстве» (39).
Если мы посмотрим на то, что делается вокруг нас, то с удивлением увидим, что абсолютно все здесь перечисленное в той или иной мере выполняется. Каждый год в России убивают шесть миллионов неродившихся детей. Каждый год в России только от алкогольных отравлений погибает 300000 человек, в стране не менее семи миллионов хронических алкоголиков и четырех миллионов наркоманов. Если мы – как представители Церкви, так и общественности – не возвысим свой властный голос против этого тихого убийства, невидимой информационной войны, то через двадцать-тридцать лет Россию можно будет брать голыми руками – некому будет ее защищать и некому в ней работать. Тогда мы окажемся недостойны памяти наших павших предков, в том числе, миллионов верующих и сотен священнослужителей, и характеристика Гитлера, к сожалению, будет абсолютно верной.
Надо неукоснительно говорить миру всю правду о той войне, не будем забывать, что русских в годы ВОВ погибло 66,2%. И не надо бояться той клеветы, которая широким фронтом развернулась против великого подвига нашего народа. Но для того, чтобы нам победить в этой борьбе, нужна воля, а для нее - вера в Бога, Божий промысл и назначение России - такая вера, какая была у Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия, митрополита Киевского Николая, митрополита Ленинградского Алексия, архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), протоиерея Александра Романушко и сотен других подвижников благочестия. И да поможет нам Бог в стяжании такой веры для спасения России и Русского народа.
День Победы 9 мая 1945 года пришелся на перенесенный (по церковному календарю, из-за Пасхи) день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя христианского воинства. От фашистской Германии Акт о безоговорочной капитуляции подписал адмирал Денниц и это тоже знаменательно: святой Георгий победил Денницу.
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин (Горянов О. А.)
академик РАЕН, Председатель Синодальной богослужебной комиссии, профессор
Ссылки:
1. Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в ХХ веке. М., 1995. С. 35.
2. Там же. С. 183.
3. Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. Сборник документов. М., 1943. С. 3-4.
4. Там же. С. 9.
5. Там же. С. 9.
6. Луи Повель, Жак Бержье. Утро магов. Пер. с фр. К.: «София», 1994. С. 295.
7. Вейс И. Адольф Гитлер. М., 1993. Т. 2. С. 243.
8. Сергий (Ларин). Православие и гитлеризм. Одесса, 1946-47. (Рукопись). С. 23.
9. Руденко Р.А. Нюрнбергский процесс. Т. 2. М., 1966. С. 130.
10. Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. Сб. документов. М., 1943. С.31.
11. Там же. С. 86.
12. Послание от 9 декабря 1942 г. к румынским пастырям и пастве //Русская Православная Церковь в Великой Отечественной войне…. С. 81.
13. Послание от 22 ноября 1942 г. к румынским солдатам // Русская Православная Церковь в Великой Отечественной войне….С. 78.
14. Саулкин В. Очистительное испытание // Радонеж, 1995. N 3. C. 5.
15. Каноненко В. Поправка к закону сохранения энергии // Наука и религия, 1985, № 5. С. 9.
16. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 1999. С. 125.
17. Простите, звезды Господни. Фрязино, 1999. С. 256.
18. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 6991. Оп. 2, д.3. л. 45.
19. Советская Россия, 1990, 13 сент. С.2.
20. Священники на фронте / / Наука и религия, 1995. N5. C. 4-6.
21. Якунин В.Н. Свидетельствует спецхран // Наука и религия. 1995. N 5. C. 15.
22. Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. Сб. документов. М., 1943. С.31.
23. Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь в 1927-1943. // Вопросы истории, 1994. С. 43.
24. Российский центр хранения и изучения документов Новейшей истории (РЦХИДНИ), ф. 17, оп. 125, д. 407, л. 73.
25. Московский церковный вестник, 1989, N 2. C. 6.
26. Якунин В. Н. Велик Бог земли Русской // Военно-исторический журнал. 1995 №1. С. 37.
27. Тихие обители // Наука и религия. 1995 N 5. C. 9.
28. История Русской Православной Церкви. От восстановления Патриаршества до наших дней. Том 1: годы 1917 – 1970. Гл. ред. Данилушкин М. Б. СПб., 1997. С. 877.
29. Поспеловский Д.Н. Русская православная церковь в ХХ веке. М, 1995. С. 187.
30. Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы. Т. 1. Подготовка и развертывание фашистской агрессии в Европе 1933-41 гг. М., 1973.
31. Православная Церковь на Украине и в Польше в XX столетии: 1917 – 1950 гг. Сб. под ред. Фотиев К., протоиерей, Свитич А. М., 1997. С. 270.
32. Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. М., 1996. С. 511.
33. Раевская-Хьюз О. О Псковской миссии // Бенигсен Г., протоиерей. Не хлебом единым. М., 1997. С. 232.
34. Там же. С. 233.
35. Голиков А., священник, Фомин С. Кровью убеленные: Мученики и исповедники Северо-Запада России и Прибалтики (1940 - 1955). М.: Паломник. 1999. С. 176.
36. Шкаровский М.В. Там же. С. 196.
37. Приём И. В. Сталиным митрополита Сергия, митрополита Алексия и митрополита Николая // Известия. 1943 г.9.5.
38. Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии в 1944 году. Минск, 1965. С. 314-348.
39. «Совершенно секретно. Только для командования». Стратегия фашистской Германии в войне протии СССР. Документы и материалы. М., 1967. С. 116.
Отец Киприан - священник необычный: он прошел две чеченские войны. Был на передовой, ему приходилось сидеть с солдатами в залитых ледяной водой окопах… Он выносил раненых с поля боя, не забывая о своих прямых обязанностях: исповедовал, крестил, отпевал и даже венчал. Освобождая ребят, он несколько раз был в плену, шесть раз его водили на расстрел…
«Практически все солдаты принимали меня. Среди тысячи лишь два–три не хотели открывать своё сердце, чуждались. Но Господь с ними. И вот, для кого я был православным батюшкой, для кого боевым товарищем, а для кого - весточкой из дома, где их любят и ждут. Не батюшка, а батя. Который заслонит их собой и скажет смерти: «Отойди. Я не дам их. Ты сегодня здесь ничего не получишь.» И Господь даёт такую силу, и сам всё делает.
Были ли чудеса? «Был плен, и я жив. Везде, где бы я ни был, - солдатики в живых оставались. Ещё в 95-м ходили мы по Грозному вдвоём с полковником Папекяном, объясняли мирным жителям, где пункт оказания помощи, где захоронения, где воду можно взять, где хлебушек, где переночевать. И снайпер стрелял - в него и в меня. Пробил мне клобук, в сантиметре от головы. Чудо? Героизм? Это не героизм. Есть такая вещь - вера в Бога. Волос с головы не упадёт… В Урус-Мартане в 95-м попали в три засады, одна из них артиллерийская. Живы. Чудо? Или вот история с МЧС…»
Автобатальон МЧС стоял в ауле, на родине Дудаева, совершенно не прикрытый. И в последний день Рамадана боевики-смертники захотели подарок президенту своему сделать - уничтожить эмчээсовцев. Отец Киприан в то время с автобатальоном был. В карауле всего четыре ствола, необстрелянные ребята. Подъехали тридцать две машины, около 150 человек. Вышли оттуда боевики. Они готовы были уничтожить этих ребят, всех до единого вырезать, для того и приехали. «Я один папка у детей был в те минуты. Умолял Господа не допустить…» - вспоминает Киприан.
Вышел к бандитам. «Ну иды-иды, мы тэбя порежэм!» Вместо слёз и мольбы отец Киприан поздравил их с Рамаданом. Заговорил с ними о мире, о кровавой истории двух народов, о мафиозной разборке Кремля. Говорил об эмчээсовцах: «Там дети, они спасатели, они гуманитарную помощь оказывают!» А потом - снова о самих чеченцах: «Дай Бог, чтобы у вас цвели сады, чтобы дети резвились и их щебет не умолкал.» Киприан искренне желал им мира. И случилось чудо. Эти мощные, вооружённые мужчины, смертники-головорезы стояли недвижно и плакали. А потом они разъехались, а через полтора часа пришли старики и дети из соседнего посёлка и принесли эмчээсовцам угощения, как это принято в последний день Рамадана.
«Дудаев объявил его врагом чеченцев, заявив, что он будет обращать их в православие, но чеченцы называли его своим братом. А для российских солдат он был настоящим отцом. Батей».
В Москве, в своей келье Киприан ежеминутно вспоминает их, солдатушек павших: «Здесь в келье обитают души тех, кто ушёл в вечность. Тех, кого уже забывают, но никогда не забуду я. Поэтому моя служба очень длинная, длиннее многих служб, потому что я читаю несколько тысяч имён, вспоминая о каждом. По нескольку часов, два раза в день. Это же всё мои солдаты, мои друзья.»
В первую Чечню отец Киприан попал в плен к Хаттабу. Отцу Анатолию лично 38 ранений нанёс. Выводил на расстрел и Киприана: «Крикни «Аллах акбар!» - отпущу». Это кроме остальных издевательств и глумлений. «Бог меня спас, не нарушил я клятву перед Богом, и не дал Он меня убить.
«Сколько святых у Земли Русской! И все они молятся за нас. Господь берёт к себе погибших воинов - новомучеников. Смерти нет, ребята, - говорит отец Киприан солдатам, - а есть позор. Есть возможность не спасти свою душу. Честно воюйте и останетесь живы, а если вы уходите - то уходите в вечность, и там за нас молитесь. Мы с вами встретимся, это временное расставание. Новомученики русские - сколько их было во времена войн! За всю нашу историю, за все войны - сколько святых у Земли Русской! А мы - потомки этих святых, в нас течёт их кровь, в каждом из нас. Можно ли такой народ уничтожить? Нельзя. Это великая тайна России…
… Хочу, чтобы униженным на своей русской земле не был русский человек.
За мужество воинами Российской группировки был наречён ПЕРЕСВЕТОМ.
Воины силовых министерств России ласково называют его - БАТЯ.
По Воле Божией закончил служение Киприан - Пересвет.
12 июня 2005-го года, в городе Санкт-Петербурге, он принял Постриг в Великую Схиму, став старцем схиигуменом Исаакием.
Но навсегда останется с нами - всё тот же Батя, который не представляет себя, своей жизни без нас, без вас, дорогие люди!
Он - войсковой монах-священник.
Его приход - все наши воины.
Он и сейчас постоянно творит свои спасительные молитвы - за мир и любовь, за то, чтобы не гибли люди, за победу добра над злом, за нас с вами, за Землю и Славу Русскую!